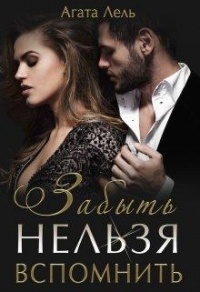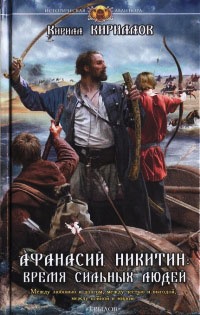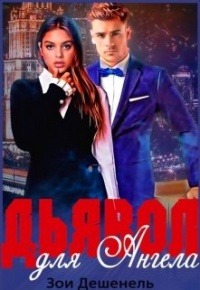сам знать. Но да теперь неважно. Слышать его больше не хочу. Видеть тем более.
— Нет, это ты напрасно, — но убеждения обоих меня уже не трогали. Мы зачем-то поругались, хорошо, на следующий день, помирились, и с Олей, и с Михалычем. Удивительно, но она простила меня тотчас, наверное, поняла бессмысленность разговоров с отцом. А может, осознала, насколько другая у меня семья, насколько я другой человек. Более настороженный, более закрытый. Как будто боящийся заразиться новыми знакомствами, но при этом при каждом удобном и неудобном случае, пытающимся найти в приятеле лучшего друга. Придя на следующий день, она просто обняла меня и долго сидела, не отрываясь и не произнося ни слова. И я сидел впитывая ее запах, ее тишину, ее легкое дыхание.
Казалось в эти минуты долгого блаженства, что ничего не произошло: ни размолвок, ни разбежек, с дня приезда преследовавшие нас, а если и случилось что — быльем поросло. Теперь у нас планы, будущее, которое, обязательно, чтоб ни произошло еще, все превозможет. И так ясно это ощущалось, как прожитое — будто нам уже по восемьдесят, и сейчас мы только и делаем, что возвращаемся в давно забытые воспоминания, в которых мы еще боролись за то, что стало принадлежать нашей семье по праву.
Мне почему-то вспомнился Дойч, уже позже, когда Оля загремела сковородками, разогревая вчерашнюю картошку. Неожиданно подумалось — а он-то как живет, отчужденный, отреченный и от себя и от отца. У меня просто нелады с родителем, а у него действительно трагедия, с самого рождения преследовавшая его, не оставлявшая в покое ни на минуту. Наверное, потому отец и покончил с собой — по крайней мере, так говорил он сам, хотел верить, что когда в очередной раз родителя за каким-то лешим забрали в органы и долго там прессовали — повод остался без всяких объяснений и позже, когда тело выдали. Вместе со справкой, что покончил с собой по естественным причинам. То есть без насилия со стороны сокамерников или охраны или следователей. Дойч-старший должен был привыкнуть к подобному, переносить тяготы непростой жизни пленного — это клеймо осталось с ним навсегда, сколько бы времени ни проходило с поры оной, как бы ни разворачивались знамена партии. После смерти Сталина к нему стали относиться помягче, еще бы, перевели из сибирского поселения в наш город, где он встретил свою любовь, им даже позволили жениться и родить ребенка. К тому времени, к пятьдесят седьмому, немолодым уже людям, возможно, показалось, что прошлое не кинет тень на младенца, что грехи отцов не останутся на детях. Жаль, что это не так, что христианское жестокосердие осталось и в нашей жизни. Дойча-младшего преследовали едва ли не так же, как и отца, удивительно, что он сумел окончить вуз, устроиться на вполне приличную работу. Нет, это уже старания Артура, он находил людей и неординарных и обделенных. Вроде него или меня, хотя нет, что он знал обо мне — просто человек показался подходящий.
А Дойч у нас и вправду, развернулся, расцвел. Без него трудно было представить наше ателье, он работал не за страх а за совесть, будто стараясь еще и еще раз доказать, что не повинен в том, в чем и отца его не имелось греха. Даже когда его взяли посчитал это проверкой. А когда отпустили — лишним доказательством и своей правоты и верности новой, со скрипом меняющейся машины правосудия. Потому так танцевал и пил на дне рождения Фимы, потому хохотал над любой шуткой, приглашая присоединяться к нему всякого, кто в тот момент находился рядом. Затмевая собой именинника, подменяя его.
Впервые жизнь повернулась к нему фасадом, пусть не слишком богатым и пригожим, но ведь не прежний убогий, нищий тыл, опротивевший, набивший оскомину. Как ему было ни отпраздновать это освобождение, возможно, мимолетное, как ни напиться до чертиков на радостях? Неважно, что дальше, в тот день он был кум королю.
Оля позвала меня ужинать, последнее время мы все делали вместе, втроем, жили вскладчину, разве Михалыч себе оставлял что-то на загулы, но не более десятки. Получалась вроде семья, даже дружная. Оля и его хотела пригласить, но дворник решительно отказался, никак не мотивировав довольно странное решение.
— Буду вас тут дожидаться. Пьяных и счастливых. А за меня не беспокойтесь, другие дела найду. Тоже веселые.
Последующие после визита в Шахты дни прошли в привычном уже горячечном ключе. Оля стала готовиться к свадьбе, пока только морально, за полтора месяца надо еще себя уговорить, а уж потом закупаться всем необходимым. Тем более, когда основную ношу расходов взяли на себя ее родители. Солнышко пока продолжала снимать документы, все больше по афере номер три, причем полными пленками, приносила иной раз по две, по три. Говорила, Виктория ей в этом неосознанно помогает, давая ключи от несгораемого шкафа, где хранится еще и бухгалтерская документация высшего уровня, с которой надо сравнивать отчеты и выписывать такие, чтоб цифры плана и его перевыполнения сошлись. Там же Ковальчук, вернее, его команда финансистов хранила свою динаму, которую начала крутить перед самым новым годом. Договорившись с минфином, Ковальчук закупал оборудование для так и не построенных шахт, отказывался от него, списывал, а имея разрешение на вывоз мусора за рубеж, вывозил как лом, продавая во Франции, Германии, Бельгии, Британии, словом, везде, где имелся спрос на горнодобывающие и перерабатывающие агрегаты. Причем, скупал как то, что реально ему требовалось, так и то, что не пригодилось бы никогда, вроде автомобильных моторов, подводных кабелей, радиооборудования, и прочее и прочее. Демпинговал, продавая, но все одно имел громадный навар уже на входе в аферу. А возвращаясь и честно передавая валюту государству, обменивая ее по курсу Внешторгбанка, а не Госбанка и вовсе получал несусветные деньги.
Впрочем, с сожалением заметила Оля, это почти легальный бизнес. Максимум, который может получить за него Ковальчук, как она выяснила, тайно проконсультировавшись у знакомого юриста, лет пять, и то если будет доказан ущерб от его действий. А это вряд ли, ведь столько финансовых учреждений заинтересовано в получении круглых сумм от излишков производства. Ковальчук был готов торговать хоть танками, попавшими под сокращение, окажись у него такая возможность — и их бы продавал как лом, усиливая блок НАТО в непомерной степени. По счастью, утилизацией старого оружия занималась другая компания. И она действительно что-то там ломала, возможно, не совсем то, или совсем не то, в любом случае, «отходы» шли прямиком в Африку или Южную Азию, давним партнерам, что-то там говорившим про социалистический путь развития или хотя бы намекавшим на это.
Словом, коробку номер три мы довольно быстро